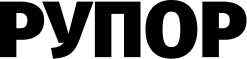В АРМИИ ДЕРИПАСКА БОРОЛСЯ С ДЕДОВЩИНОЙ
Родился 2 января 1968 года в г. Дзержинске Горьковской области.Получил два высших образования: с отличием окончил физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, а также Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова.В 1994 году 26-летний Олег Дерипаска возглавил один из крупнейших в России Саянский алюминиевый завод в восточносибирском городе Саяногорске (Республика Хакасия). Под руководством самого молодого в России генерального директора третий по мощности в стране электролизный завод стал лучшим в отрасли. Выступил инициатором создания группы «Сибирский алюминий», через три года после образования она вошла в десятку ведущих мировых производителей продукции из алюминия
Было воскресенье. Мы с Юрой Феклистовым отправлялись в гости к знаменитому предпринимателю. К самому молодому алюминиевому королю мира. Мы отправлялись практически в пасть акулы. А я все мучился: о чем спрашивать? О том, что такое толлинг? О стратегии развития отрасли? О том, как он лоббирует и кого поддерживает в политике? О том, почему он входит в список самых влиятельных людей страны и в список самых богатых женихов России?
Мне такие вопросы было задавать неловко. И скучно. Мне хотелось понять: какой механизм двигает человеком, который сам двигает такие огромные махины? Но ведь так в лоб не спросишь. И я начал издалека…
— Олег, скажите, в детстве вы были человек домашний или уличный? — Наверное, уличный. Я бы даже сказал — полевой. Я рос на хуторе. Там я жил с четырех до девяти лет, у маминых родителей, на Кубани. — А как это место вообще называется? — Хутор Железный и хутор Октябрьский. Усть-Лабинский район. Это типичная такая Кубань. Она, кстати, очень сильно отличается от всей остальной сельской России. — Чем? — Всем. Людьми. Настроением. Изобильный очень край. — А вы там бывали недавно?
— Конечно. Бываю раз в два года или раз в год. Правда, был большой перерыв, в несколько лет, а если точно, шесть лет я там не был. Я приехал в это лето, залез на черешню и сидел там два часа. Два часа, не слезая. Лучшая черешня на Кубани. Ну, то есть для меня это такая восстановительная процедура.
— Ну и как вообще проходят эти поездки в личном плане? Кто-то там с вами общается как с представителем «большого города»? — Нет. Я думаю, что они просто не в курсе текущей ситуации. Людей, которые там живут, интересует другое: земные дела, которые вокруг происходят. События, которые их затрагивают. Какая пенсия. Какие цены. Как государством будет дотироваться село, там же еще крепостное право в некотором смысле. Как-нибудь хотят решить вопрос с землей, а он все никак не решается… Мне сложно говорить о моих впечатлениях, к сожалению, они очень внешние. А у меня там, скажем так, наследство — дом моей матери, ее отца, дом бабушки по отцовской линии. Я приезжаю на кладбище. Вот и все. — Что больше всего запомнилось из полевого детства?
— Одни мои бабушка с дедушкой жили в одном хуторе, другие — в другом. Дело в том, что мой дедушка умер, когда мне было семь лет, я пошел в первый класс. И я остался один в пустом доме. На какое-то время. Поэтому я часто переходил из одного Трудно сказать. У меня к людям, которые рядятся сейчас в эти казацкие одежды, отношение сложное… Я их не видел там никогда, когда рос и был ребенком. Хотя, наверное, традиционно — да. Те же люди, те же кони. Но вряд ли эти ряженые и сейчас вызывают там какое-то доверие. Хотя… оружие людям в этой местности раздать, наверное, надо. Чтобы они смогли себя защитить.
— Слишком много стало выходцев с Кавказа? — При чем тут Кавказ? У нас в школе, например, было много армян, адыгейцев. Я вообще никогда не задумывался: татарин, русский, православный, мусульманин. Среда была ровная, очень терпимая. Были просто соседи, которые пытались меня накормить, когда я остался один, спрашивали: ну как ты, сыт? Не было между людьми такого количества барьеров. Они были свободнее… Понимаете, все-таки в те советские годы люди жили в полной социальной определенности. Сейчас они попали, скажем так, в полную неопределенность. Все зависит лично от тебя. Надо понимать, что это ведь уже не было в чистом виде крестьянское натуральное хозяйство, это была индустриальная система хозяйства, может быть, плохая, но индустриальная. Назад вернуться, на целый исторический этап, им сейчас очень тяжело, много крестьянских навыков утеряно. Ну… как везде. Сейчас каждый занимается каким-то ремеслом. Чтобы выжить. А тогда вся жизнь наперед была расписана: школа, институт, распределение, работа. Все это было гарантировано. Сейчас не гарантирована ни одна из этих стадий. Ни одна. У человека, даже если он гений, просто может не оказаться денег на билет, чтобы доехать до города и поступить в институт. А если он поступил, у него не будет денег, чтобы учиться и себя обеспечивать. Как ни странно, в каком-то смысле все это привело к потере свободы. Хотя система образования, как я считаю, это наша базовая ценность. И именно она нас спасет. Мы все — граждане другой страны, если говорить об этой системе образования. — Какой страны? Той, которая была?
— Да, конечно. Но о ней не надо жалеть. В ней было очень много плохого. А вот людей, да, жалко… Государство готово решать их проблемы, просто сама страна для этого должна стать богаче. Сама страна. Вот и все.
— А учителя там еще остались, которые вас учили? — Остались. Я немного помогаю той школе, где я учился. — Как? — Ну… в общем, помогаю. — Школу заканчивали там же, на селе? — Нет, я в одиннадцать лет переехал к маме, в райцентр, в Усть-Лабинск. И там же школу закончил. Понимаете, маленький город… он позволяет сосредоточиться на себе. Именно там я понял, что буду учиться. Я поглощал информацию, причем любую. Я вдруг страшно захотел читать и обнаружил, что толстую книгу, страниц триста или четыреста, проглатываю за день, за два. — И с чего начали?
— Ну… с чего все начинают? С Майн Рида, Конан Дойла. Потом пошло-поехало без разбору. Это при всех прочих равных — домашние задания, спорт. Учебник математики я мог прорешать за неделю. Все, что было рассчитано на год. Иногда выигрывал все районные олимпиады разом по физике, химии, математике.
— Вы часто дрались? Вам вообще доставалось из-за того, что вы были отличником, да еще и примерного поведения? — Нет, мне не доставалось, потому что я занимался спортом. Был очень развит физически. В детстве мы часами гоняли в футбол: по пять часов, когда уже невозможно выиграть друг у друга. Я занимался практически всем: боксом, борьбой, регби, футболом без правил. Дрались во дворах: школа на школу, район на район. У нас были совершенно другие отношения, чем те, что я наблюдал у подростков в конце 80-х, в крупных городах, скажем в Москве. То есть не было никакого бандитского беспредела, травли, унижений, вымогательства денег. Были мальчишеские коллективы и соответственно какой-то другой принцип самоорганизации. Очень естественный. Это было соревнование, скажем так. То есть люди соревновались везде. В школе, на футболе, обязательно драки, стенка на стенку, потом… сады и огороды. Представляете, наш городок — сады из конца в конец и без всяких заборов. По крайней мере мне так казалось, или действительно не было заборов для нас. Когда все там расцветало. Начиналось с абрикосов, заканчивалось арбузами, помидорами, клубникой, виноградом… У нас был специфический учебный год: два первых месяца мы не учились, работали в поле — собирали урожай. Все, начиная с черешни, заканчивая помидорами. И два последних месяца не учились: нас сажали в автобусы и гоняли на прополку. Наш класс был довольно спортивный. Там были сильные люди, такая кучка лидеров. И при этом мы умудрялись дружить, а не враждовать. — Остальные ваши школьные лидеры, что с ними стало потом? — У каждого своя жизнь. Почему «потом»? Наша жизнь еще не окончена. Всем им, как и мне, по 32 года. Все еще впереди. Кто-то переехал ко мне в Москву. Да, есть мои школьные друзья, которые со мной путешествуют по стране. Помогают решать мне какие-то проблемы. Кто-то зажил своей жизнью. Девочки, наверное, все замуж вышли. С некоторыми моими одноклассниками раз в неделю играю в футбол, езжу на рыбалку. — Никто из одноклассников не сделал вашей карьеры. Никогда не задумывались: почему? Что это — удача, случай?
— Очень много сил было потрачено. Я помню, когда в университете учился, уходил в 9 утра и приходил в 10 вечера. Это был реальный труд. Вы же понимаете, что человеку после обычной школы довольно тяжело сразу воспринять университетскую программу. Там, на физфаке, нет никаких скидок. Не бывает. И еще: я стараюсь делать только то, что мне нравится.
Он чрезвычайно труден для интервью. Этот недостаток абсолютно точно вытекает из его деловых достоинств: говорит сухо, всерьез и ничего лишнего. Он морщит лоб, роняет слова в середине между долгими паузами. Спокойный взгляд, глуховатый голос. Мне становится немного стыдно: неужели я и сам раньше не догадывался, что процесс взросления невозможно описать байками, «историями», анекдотами и образами. Рядом с ним я тоже стараюсь мыслить системно. В любой жизни есть закономерность, правильно? Закономерность его жизни: не очень легкий старт, в раннем детстве пришлось несладко. Он выдержал. До двадцати шести лет жадно поглощал информацию, все остальное его мало интересовало. С трудностями справился, потому что был силен и вынослив. Вот и все. А вы чего хотели?
— А как вообще вы поступили на физфак МГУ? — Просто приехал и поступил. Набрал проходных шестнадцать баллов. Ровно столько, сколько было нужно. Выбрал кафедру квантовой статистики и теории поля, она считалась очень сложной. Страшная конкуренция: ведь все начинали с равной стартовой позиции, а вокруг меня были такие люди, из лучших учебных заведений, из лучших школ Москвы и страны. Нам преподавали директора академических институтов. Было трудно. Я был выпускником сельской школы, даже в садик никогда не ходил, меня дед научил читать, играть в шахматы… Вы знаете, что выпускник физфака должен сдать 16 — 17 математических дисциплин? Первые три курса речь о физике вообще не шла, нас просто подтаскивали до нужного теоретического уровня. Кстати, Москву я воспринимал довольно своеобразно. Огромный город, полгода ушло на привыкание. Жил в общежитии, на Мичуринском, там у нас были люди из разных стран, например кубинцы. На их примере мы воочию увидели, что такое классический социализм и как далеко мы от него ушли: они проводили в общежитии партсобрания, песочили отстающих. Кстати, как и они, я впервые увидел в Москве снег. Помню, как один кубинский студент решил покататься на лыжах. Надел лыжи, застегнул крепления, все как положено. Причем сделал он все это у себя в комнате. Потом начал спускаться по лестнице. Сломал одну лыжу, потом вторую… Чего смеетесь? Я тоже на лыжах так и не научился ходить, между прочим. — Хорошо, а что было дальше? — Учился год, потом ушел в армию, два года отбарабанил в армии. — А тогда брали студентов дневных отделений? — Да, был такой период в начале горбачевской эпохи. Ровно два года. Я как раз в него попал. Нас двумя самолетами выгрузили в Чите-46 — ракетные войска. Рядом со мной были мои друзья с физфака. Я видел, что им было очень трудно. Очень. Москвичи и жители больших городов вообще тяжело переносят армию… Закончил учебку, потом еще пару месяцев меня готовили на сержанта. А потом меня все время переводили из одной части в другую. Чтобы бороться с неуставными взаимоотношениями. — Как это? Подзатыльниками? — Порой это был единственный способ. — Кстати, вы в школе или в армии достигли каких-то спортивных разрядов?
— Нет. В Усть-Лабинске профессионального спорта не было. Были просто энтузиасты, которые занимались с детьми. Я не был спортсменом.
— Вам нравилось бороться с неуставными взаимоотношениями? Ведь вы же благое дело делали… — Уставные взаимоотношения были ничем не лучше. Другое дело, что та система хоть как-то уберегала людей, все-таки они были с оружием, у них было разное психическое состояние, они были разных национальностей, вероисповедания. Я пытался установить жесткую систему взаимоотношений, чтобы она хотя бы гарантировала жизнь. Например, первый марш-бросок москвичей несли на себе. Главная же беда состояла в другом: в той армии, куда я попал с друзьями, там уже не Родину защищали. Себя, может быть. Была уже перестройка. Люди уже не понимали, где они, куда они попали. Это была некая неопределившаяся организация. Тем не менее я считаю, что был там неплохим командиром. Контролировал обстановку в части в качестве старшины роты, или батареи, или эскадрильи — я много частей сменил. По крайней мере я учил ребят каким-то базовым для солдата вещам. Воспитывал сержантов, которые могли руководить солдатами. В тот год были страшные пожары в Читинской области. Жара, гарь… Вот тогда я впервые увидел настоящую бедность, у нас, на Кубани по крайней мере, я такого не встречал. Нас бросали вырубать в лесу защитные полосы. Помню, как попали в одну деревню и у меня был шок: я впервые увидел дом с крышей, но без потолка. Входишь, а сверху стропила, балки. Такое я потом видел лишь однажды в Африке. В общем и целом, армия — это тест на выживание. Помню, БТР заглох на учениях. Я командир отделения. Мы в лесу. Сорок градусов мороза. Где-то надо ночевать. Спали на снегу, под елками, прижавшись друг к другу. К счастью, все проснулись нормально. И хотя детали БТРа окончательно примерзли, водитель нашел решение, и машина завелась… — Это вы помогли ему найти решение? — Помог ему найти мотивацию, скажем так… — Вам помог потом армейский опыт? Например, в бизнесе? — Может быть. Но от многого до сих пор приходится избавляться. Армия очень неэффективная система. И для решения задач, которые требуют проявления человеческой индивидуальности, ее методы не подходят абсолютно. — А вот то, что солдаты «не родину защищали», — это что для вас значит? — Там, где я вырос, к этим вещам было особое отношение. Ну как вам сказать, вот мои два деда: один погиб на войне, другой очень тяжело ее прошел — воевал от Халхин-Гола и дальше, дальше, до сорок пятого, всю Дальневосточную кампанию. Даже в Иране служил. Отношение к армии было совсем другое, чем внутри самой армии. Вот это было для меня тяжело. — А дальше?
— Дальше я вернулся на физфак. Целый год нас практически держали в отдельных помещениях, во-первых, мы были страшно агрессивны. Во-вторых, абсолютно все забыли. Все пришлось вспоминать с нуля: пределы, дифференциалы, интегралы. Только через год три наши дембельские группы слили с остальными. Но многие уже бросили учиться. Армия перевернула наши представления о жизни. Ребята не смогли справиться с этим. И опять-таки перестройка. На стипендию уже нельзя было не то что прожить, купить хоть что-нибудь. Было понятно, что наступает другая эпоха.
— Вы уже в институте занялись бизнесом? — В прямом смысле нет. Я просто начал зарабатывать деньги. В стройотряде. Пришел из армии в марте. И уехал в стройотряд. До августа. Мы строили на Ямале, строили в Казахстане и на Урале, в Тульской области. Коровники, дома. Где я только не был… До сих пор меня волнует судьба одной котельной. Мы все-таки оставались в душе физиками, и что-то такое в проекте нас с моим другом волновало, что-то было не так, какая-то техническая неувязка. Конкретно уже не помню. Ямал — это Крайний Север. 29 августа мы достроили котельную и уехали, а 1 сентября пошел снег. Мне до сих пор хочется узнать: заработала та котельная или нет? — Вы много тогда зарабатывали? — Да, мы зарабатывали столько, что могли ни в чем себе не отказывать. — В каком смысле? — В прямом. — Но ведь это был не бизнес, тогда в стройотряде, это был заработок… — (Улыбается.) Нет разницы между бизнесом и заработком. — Нет разницы? — Это основной мотив бизнеса, понимаете? Люди, которые о нем забывают, как показывает опыт, совершают тяжелую ошибку. — Вы хотите сказать, что до сих пор, занимаясь бизнесом, вы зарабатываете себе на жизнь?
— В каком-то смысле, да. Об этом нельзя никогда забывать. Иначе получается что-то другое. Очень много таких примеров. Негативных. Конечно, термин «зарабатывать на жизнь» не описывает всей массы возможностей… Бизнес — это вообще сложение возможностей. Иногда финансовых. Его опыта, когда он может выступить экспертом. Иногда бизнес просто от вложения усилий. Но, тем не менее, содержательная часть бизнеса — это прибыль. Вот об этом нельзя забывать.
Первый раз мы беседовали в загородном доме Олега, второй — в офисе. Загородный дом двухэтажный, кирпичный, просторный. Минут десять ехать от окружной дороги на север. В прихожей много войлочных шлепанцев для гостей, обувь надлежит снять. В зимнем саду чрезвычайно густая тропическая растительность и полумрак. Никакой вычурной мебели, золотой лепнины. Все довольно просто, функционально, много дерева. Чувствуется, хозяин не очень много бывает дома, ни одной случайно брошенной вещи я не обнаружил. Очень высокие потолки. На первом этаже гостиная, столовая, видимо, еще ряд помещений, в которых я не побывал. За стеклянной дверью кухни виден повар в белом колпаке. Вообще, помимо шофера и охраны у входа в дом, здесь не видно большого количества людей, максимум один-два человека, скромные женщины в домашней одежде. На втором этаже кабинет-библиотека. Недавно купленные собрания сочинений. Как ни странно, книжки в основном художественные, плюс энциклопедии и кое-что по Африке. Олег говорит, что рядом с домом небольшая площадка для мини-футбола, только ее сейчас ремонтируют, а то бы поиграли (шутка). Играет он раз в неделю с друзьями, о чем я уже знаю.
Себя Олег персонажем светской хроники не считает, поэтому вмешательства в свою личную жизнь не допускает. Интервью не дает. Тем более о себе. Мой опыт первый. И не последний ли? Простите, братья-журналисты, если навсегда отобью у Олега охоту к таким способам самовыражения. Иногда, правда, он выступает в СМИ со статьями и интервью: разъясняет ситуацию в алюминиевой отрасли и в экономике вообще.
— И вот в какой-то момент вы просто поняли, что зарабатываете в десять раз больше своих однокурсников, и решили заработать еще больше? Или было как-то иначе? — Потом начался романтический этап. Если вы помните, это было страшно модно: возрождать традиции предпринимательства, и все такое. Появились первые товарные биржи. Брокерские конторы. Я помню первые выступления Борового, как все это тогда пропагандировалось… Все говорили о каком-то ренессансе русского бизнеса, о возрождении традиций. Это было новое дело. У меня был кое-какой опыт, в стройотрядах мы имели дело с первыми кооперативами. Кстати, мама хотела, чтобы я поступал непременно на экономический факультет. Она более реально оценивала ситуацию в обществе. Но я не послушал, выбрал физфак. Получил диплом физика… и стал брокером. — Получается, что вы человек, не скажу что идейный, но… верящий в какие-то ценности? Да? — По крайней мере, на них стоящий… — То есть вы тогда, в девяносто первом, поверили в эту идею ренессанса? — Да нет, не так… Я же говорю: то, что тогда происходило, это был просто такой захватывающий процесс… По сути дела, то же самое соревнование. Как в школе. И потом… это был достаточно быстрый процесс. — Вот вас, как человека, стоящего на базовых ценностях, не отвратил этот русский бизнес, начальный, разнузданный? — Да нет, можно же было им не заниматься. Каждый раз оставаться в своей системе ценностей. Главное было их иметь. Иметь в голове какую-то систему взглядов. Даже тогда, в те бурные годы, всякий раз удавалось принимать правильное решение. Главное, что меня поразило в этом русском бизнесе: в него валом повалили люди, не то что не обладающие каким-то там опытом или квалификацией, но просто не знающие элементарного законодательства. Для них это было просто продолжением их номенклатурной партийно-комсомольской деятельности, и только. Они получили возможность чем-то там воспользоваться, заработать без анализа, без оценки, без базового понимания. Громадная масса ресурсов из государственной экономики оказалась даже еще не на рынке — просто на улице. В одну секунду перестал существовать, например, Госплан, представляете себе эту махину? И люди, пользуясь связями, пытались подбирать эти ресурсы и их использовать. Как вам сказать: мы жили в другой жизни, в которой не было ни денег, ни капиталов, ни процентных ставок. Бывшая номенклатура, рванувшая в бизнес, даже не пыталась всего этого понять. — А вы? — Я пытался подойти к этому системно, как в физике. Начать с основ. Я ходил вольнослушателем на экономический факультет, читал книжки, проходил что-то вроде общественной практики в Центробанке СССР, по управлению ценными бумагами, тогда это было модно. Я разложил свою жизнь и свою работу на правильные клеточки. И все, что я пытался делать, — это выстроить какую-то систему. Расписать на клеточки. Добиться в этих клеточках выполнения определенных договоренностей, механизмов взаимодействия. Это было очень интересное время для меня. Единственно, очень жаль, что много времени страной было потрачено зря. Были зря потрачены ресурсы. Родился миф о «новых русских», которые засыпают деньгами все подряд. — То есть миф родился не на пустом месте? — Да, конечно, он фактически отражал положение вещей. Но, с другой стороны, масса успешных компаний, начала работать именно тогда, в конце 80-х, начале 90-х. У всех по-настоящему крупных компаний были свои принципы, на которых они стояли. За исключением тех, кто родился на базе каких-то социалистических монстров. Их, я думаю, еще ждет крах. — Еще ждет?
— Конечно. Те же естественные монополии. Это же еще советские организации.
— Чем ваше поколение менеджеров отличается от поколения Гайдара, Чубайса, Бориса Федорова, скажем так, поколения сорокалетних? — Одной ногой они находятся еще в той, прежней, жизни, другой ногой — в жизни новой. Ноги разъезжаются. Это очень тяжело, поверьте. Мне кажется, они по-прежнему строят какую-то не ту страну. Очень похожую на прежнюю. Хотя сами этого не понимают, но строят. А мы… еще не совсем нашли себя. Мы еще сами не знаем, куда мы идем, но уж точно не в обратную сторону. Процесс осознания идет очень медленно. И он сталкивается со многими парадоксами. Например, Москва, я считаю, слишком продвинулась вперед. Оторвалась от остальной страны, оторвалась от своих же собственных проблем. Это невозможно. — И что делать? Останавливать? Или подтягивать, скажем, Нижний Новгород до уровня Москвы? — Самару, Нижний, Питер, Новосибирск, Красноярск до Москвы подтягивать не надо. Они в экономическом развитии продвинулись в каких-то вещах гораздо дальше. Там люди живут своим трудом, своей землей. А Москва стянула на себя такое гигантское количество ресурсов, в такой концентрации, что переварить не в состоянии. — Так что же делать с Москвой? — Вы знаете, меня эта московская тема не очень беспокоит. Я в каком-то смысле вообще не ощущаю себя жителем Москвы. — Тем не менее, вы живете здесь непрерывно с восемьдесят пятого года… — Да нет, что вы, я три года жил в Сибири, был директором Саянского алюминиевого завода. — Три года? — Да, три года: девяносто пятый, девяносто шестой, девяносто седьмой. — Как вы стали директором Саянского алюминиевого завода? — Дело в том, что наша компания, она называлась «Алюминпродукт», имела с этим предприятием бизнес, мы продавали их продукцию. Это был один из лучших заводов, и это был хороший бизнес. Но постепенно мы начали видеть, что завод просто разворовывают, и начали пытаться влиять на происходившие там процессы. Мы купили часть акций на ваучерном аукционе и по закону должны были войти в Совет директоров. Нас отфутболили. — Как? — Ну, это была стандартная советская процедура: некое шоу, очень похожее на старые профсоюзные собрания, которое называлось «собрание акционеров». На этом собрании рабочим говорили, что у завода хорошие показатели, а тем временем он реально катился в финансовую пропасть. Мы начали скупать акции у рабочих. За хорошие деньги. На эти акции люди в Саяногорске покупали квартиры, машины, это был настоящий бум. Тогда, в девяносто четвертом году. — Ну, хорошо, а те, кто не был заинтересован в вашем приходе… Кстати, а в чем они были заинтересованы? — Они были заинтересованы в том, чтобы на заводе все оставалось по-прежнему: чтобы покупалось сырье по завышенным ценам, а продукция продавалась по заниженным. Завод катился в пропасть, они обогащались. — Так вот, эти силы не пытались вам угрожать, давить на вас через местную власть, через правоохранительные органы? Не пытались устраивать забастовки, митинги? — Пытались. Знаете, я за несколько последних лет столько раз это уже проходил, на самых разных предприятиях, что деталей уже не помню. Самое главное было в том, что наша компания выступала с абсолютно открытых позиций: вот акции, вот деньги. Если бы мы сделали хоть одно незаконное действие, даже телодвижение — нас бы мгновенно выкинули с завода. А мы действовали абсолютно открыто, законно и честно выполняли свои обязательства. Нас проверяли не раз. Милиция, налоговая полиция. Вообще в моей жизни этих проверок были сотни, наверное. Обычные, плановые или, наоборот, под гром разоблачительных кампаний, например, когда пресса и телевидение начали беспрерывно рассказывать об «алюминиевых войнах». — А у вас пытались брать интервью?
— Нет. А кого из журналистов интересует сейчас объективная картина, сухая правда? Кого интересует, например, внедрение на Саянском заводе новой системы газоочистки? Или новых технологических схем? Или борьба за качество сырья? Или меры по повышению производительности труда? Никого. Всех интересует другое. Кто с кем связан и прочие заоблачные вопросы. Никто не хочет на грешную землю.
— Так как же вы все-таки стали директором? — Поначалу старый директор не воспринимал всерьез наши советы. Понимаете, начиная с 1985-го года старый директорский корпус оказался между небом и землей после того, как при Горбачеве ввели выборность руководителей трудовым коллективом, они уже перестали бояться кого бы то ни было. Как могут подчиненные выбирать собственного начальника? Бред какой-то… Над ними не было никакого контроля, их перестали снимать и назначать. Это были князьки с неограниченной властью. Так продолжалось семь лет, пока не началась приватизация. Приватизацию они тоже сначала не воспринимали всерьез: ну да, рабочие получили контрольный пакет акций, ну и что? Возможность манипулировать рабочими по-прежнему была у них в руках. Лишь позднее стало понятно, что эта бумажка является титулом собственности и ее можно продать. 1994 год для алюминиевой промышленности был очень трудным. Рухнул мировой рынок, начался энергетический кризис, финансовый кризис приближался… Завод залихорадило еще в мае, и старый директор в сентябре написал заявление об уходе. Исполняющий обязанности директора тоже поначалу не хотел прислушиваться к нашим советам, и вот тогда мы приняли окончательное решение о приобретении контрольного пакета акций и перехода предприятия полностью под наше управление. — Вас не воспринимали как чужака, неопытного молодого москвича? Как выскочку? — Понимаете, все, что я делал, являлось азбукой бизнеса. Вы можете прийти на любое предприятие и заказать консалтинговому агентству точно такой же план действий: как оптимизировать производство, как наладить управление и так далее. Это уже процесс, описанный в академических учебниках. Я не сомневался в том, что здесь работают высокие профессионалы в области алюминия, но за семь лет они окончательно потеряли нормальные управленческие навыки и умения. При советской власти эти навыки все-таки были, хотя денежные мотивации были сведены к минимуму, но люди четко знали о том, как их будут контролировать, в какой момент и по какому поводу они должны объяснять начальству свои действия. Вообще-то для того времени это была довольно продвинутая управленческая система, как ни странно. За семь лет она полностью рухнула: люди перестали понимать, кто и как их контролирует и кому что они должны объяснять. Вот вы меня спрашиваете: угрожали ли мне, были ли митинги, забастовки? Я не занимался проблемами трудового коллектива. Я занимался менеджерами. Я учил их, например, составлять бизнес-планы. Учил элементарному планированию. Когда на совещании вдруг возникал вопрос, сугубо технический, и все вдруг смотрели на меня, и я с ужасом понимал, что управленческая дисциплина потеряна настолько, что даже эти вещи решаются на самом верху. Я менял эту систему медленно, эволюционным путем. За три года поменял. Главное, я отдал часть директорских полномочий, то есть научил менеджеров принимать ответственные самостоятельные решения. В рамках своей компетенции. Это главное. — Увольнять, тем не менее, приходилось многих? — Приходилось. — В ногах валялись? — Нет, не валялись. А где они могли валяться? Я же по улицам не ходил. Это тоже азбука управления. — То есть вы были чем-то вроде волшебника Изумрудного города. Руководили сверху, как бог из машины в античном театре? — Нет, сначала, когда я приехал, поговорил с людьми, прошелся по предприятию. Проанализировал ситуацию. Потом начал действовать. Я помню, как возвращался из Москвы, с коллегии Минцветмета, кажется, это было в девяносто пятом году. Меня встречал в аэропорту мой заместитель. По дороге мы увидели несколько машин, груженных металлом. Стали рассуждать: что, откуда? Развернулись и поехали выяснять. Догнали машины — металл действительно оказался ворованным. Мы очень жестко поговорили с водителями и вернули груз на завод. После этого ввели на предприятии пропускной режим. Те, кто был заинтересован в продолжении воровства (а завод, между прочим, стоял в чистом поле, довольно далеко от города), стали кричать: «Что это такое, концлагерь!»… А мы вовсе не пытались установить какой-то сверхжесткий режим. Просто прекратилось воровство. Просто на завод перестали пускать рабочих в нетрезвом состоянии. Несколько человек уволили — ведь они не давали и другим нормально работать. И все. Через некоторое время дисциплина на заводе стала совсем другой. Я очень хорошо помню собрание акционеров на Ачинском глиноземном заводе, одном из крупнейших в России. Это было очень агрессивное собрание. Другая часть акционеров, которая нам, так скажем, не симпатизировала, нас просто заблокировала. Там были крайне возбужденные люди, ими руководили такие решительные ребята, как Быков, Татарин. Интересно, что милиция в тот момент их поддерживала. На обратной дороге в Хакасию мы случайно изменили маршрут. А через несколько лет, совершенно случайно, я узнал, что нас ждали с гранатометами на одной из дорог. Меня поразило, я помню, полное на тот момент отсутствие власти в Сибири. Кстати, до сих пор в некоторых городках власть принадлежит криминальному элементу, они там держат своих мэров… — Олег, вы мне все-таки скажите, где вы в двадцать шесть лет научились принимать такие решения? — Трудно ответить. Может быть, в армии научился. — Когда вы пришли на завод, вы уже знали, что уедете отсюда через год, два, три? Или не знали? — А я и не уехал. То, что я сейчас физически там не живу постоянно, вовсе не значит, что я не руковожу заводом. Просто дела у нас пошли хорошо. А наши конкуренты не поняли ситуацию на рынке и проиграли. Алюминиевая отрасль была очень конфликтной. Часть акционеров «Трансуорлд групп» решила выйти из бизнеса и продать свои акции нескольким акционерам «Сибнефти». Поначалу я выступал на «обиженной» стороне. Мне казалось, что из-за чьей-то недобросовестности рушится дело всей моей жизни. Начался очень трудный переговорный процесс. Принципиально новым в этой ситуации было то, что переговоры вели люди, даже не знакомые друг с другом. Обычно в российском бизнесе дела ведут люди, хорошо друг друга знающие. Мы же друг о друге знали лишь из газет — и можете себе представить, что это была за информация. Пресса раздувала ажиотаж, все ожидали, что начнется очередной этап «алюминиевых войн».
Но мы быстро сумели оценить выгоду сделки. Это было слияние не личностей, а ресурсов и капиталов — классическая сделка, как из учебника: когда один плюс один действительно дают два. Результатом слияния стало то, что алюминиевая отрасль за считанные месяцы из некоторого хаоса перешагнула в нормальную рыночную ситуацию. Есть несколько крупных корпораций, есть нормальная конкуренция и борьба за мировые рынки. То, к чему нефтяная отрасль шла пять лет, производители алюминия пришли за полгода. Сегодня наша компания — третья в мире по производству алюминия. Мы боремся за новые сырьевые рынки по всему миру, например в Африке.
— Кстати, как там, в Африке?
— Недавно там был, и знаете, что меня поразило? В одном административном центре, очень сильно напоминающем нашу деревню, встретил выпускника МВТУ имени Баумана. Инженер. Неплохо говорит по-русски. Мы ведь очень много давали Африке в советское время. Причем почти бесплатно. Теперь настала пора наладить двусторонний процесс: мы им, они нам. Вообще потрясающее ощущение — дикое, первозданное пространство. Нужно быть осторожным, чтобы в лесу не попасть в чьи-нибудь объятия. В такие… зубастые.
В офисе на Котельнической набережной, где мы встречались во второй раз, нет таблички «Сибирский алюминий». От его кабинета вас отделяют два довольно скромных неброских коридора и две негромко защелкивающиеся металлические двери. Главный офис компании находится в другом месте, здесь только офис Олега Дерипаски. Когда вы подходите к первой двери, не нужно искать звонок. Негромкий голос вежливо попросит: «Представьтесь, пожалуйста!». «Мы из журнала «Огонек»! Мы к Олегу Владимировичу!» — кричу я. Входим в кабинет. Феклистов сразу к делу: а может, выйдем в коридор? Вы там пройдетесь, как будто приехали на работу… Еще лучше к машине выйти. Открываете дверь, выходите… «Если я все это начну делать, мне кажется, мои сотрудники с ума сойдут», — доверчиво говорит Дерипаска. Доверчивый тон вводит нас в заблуждение. «Ну пожалуйста!» — просит настырный Феклистов. «Я против», — тихо говорит Олег. Феклистов почему-то начинает так волноваться, что даже забывает сначала вставить пленку в аппарат. Чего волноваться? Просто у человека всего десять минут… И в этот момент я вдруг понял: в сущности, вот это и есть его секрет. Секрет прост, как вода, — он всегда говорит и поступает серьезно. Потому что он не «олигарх» (категорически вычеркнул это слово из текста, мотивируя так: «мы у власти никогда ничего не брали, все заработали сами»), а капитан производства. Я не в силах оценить его менеджерские решения. Но то, что он именно менеджер, видно с первого взгляда. Надеюсь, и вы попытаетесь посмотреть на него именно с этой точки зрения. — Чем вы еще будете заниматься в жизни? — Если можно, я быстро пробегусь по вашим вопросам. (Читает заранее заготовленные вопросы.) «Когда исчезнет недоверие к богатым?» — Когда страна станет богаче, естественно (смеется). Кстати, сейчас начинается такой интересный процесс в обществе. При оценке человека на первый план выходят, так сказать, его базовые характеристики: ум, расчетливость, умение анализировать и считать, образование, квалификация. Сейчас они снова приобретают ценность. Происходит настоящая менеджерская революция. — А в чем она состоит? — К ним будет власть переходить в обществе. Причем во всех областях: в экономической сфере, социальной, просто властной, то есть политической, в культурной. Власть будет переходить к профессионалам. Власть будет переходить к ним от тех, у кого она задержалась на период трансформации. Именно успех или неуспех этой менеджерской революции многое определит. Еще несколько лет назад этого не было. Был такой исторический этап, когда люди мгновенно взлетали наверх. Мгновенно, понимаете? Отсюда идут многие наши беды. Тот, кто должен на тракторе ездить, стал старшим агрономом, потом получил совхоз. Старший дворник становился префектом. Потом мэром. И так далее. Люди просто забыли, где предел их компетенции. Сейчас это возвращается. Вот и все. — Да, был переходный период. Но это же неизбежно… — Ну, как вам объяснить. Ну, вы никогда не сядете писать, скажем, «Войну и мир»? Это же глупо? — Конкретно «Войну и мир» нет. Но что-нибудь в этом духе… — Ну, может быть, я привел неудачный пример. Речь же о другом. Во многих очень крупных компаниях в России сложилась такая ситуация: если бы управляющие ими менеджеры, как мы говорим, топ-менеджеры, ими бы не управляли, для них было бы лучше. Я и сам пытаюсь уходить из сферы оперативного управления. Хотя мне тридцать два года. Я чувствую предел компетенции. Ну, грубо говоря, мой шофер не может стать пилотом «Формулы-1». — Но где же эти критерии? В чем они? — В видеосъемке есть такой спецэффект: одна картинка быстро сменяет другую, получается все размыто и очень красиво. Вот и у нас в обществе сейчас все очень красиво, но размыто: забыты устои, забыты иерархии. Люди забыли о пределах своей компетенции. То есть они должны осознать: тот рывок, который они совершили за эти годы (кто-то в достатке, кто-то в полномочиях по службе, в управлении, в войсках, в милиции), этот рывок не означает автоматический прогресс в их компетенции. У нас когда-то была очень маленькая компания. Сейчас мы получили в управление ресурсы, которые больше в тысячи, в миллионы раз. И я чувствую предел своей компетенции. Нужны профессионалы, эксперты. Нужна передача полномочий. — И где вы их берете, этих экспертов? — Ищу по всей стране. Самая тяжелая проблема — люди. Люди, имеющие экспертные знания, и люди, которые в состоянии воспользоваться полномочиями, им предоставленными. То есть ответственность. У меня есть ответственность: когда я решаю задачу, я могу несколько суток не спать, для меня нет ни расстояний, ни времени. Откровенно говоря, мало таких людей. — Да, но эксперты — это ведь люди, как правило, возрастные. — Заблуждение. Посмотрите вокруг: в двадцать пять, в двадцать шесть лет можно стать кандидатом наук, в тридцать — генералом… — Это нормально? — Конечно. — У вас есть друзья? — Есть. И школьные, и институтские. Мы играем в футбол раз в неделю. Ездим по стране. То есть мы по-прежнему рядом. Мы не теряем друг друга. Я уже говорил об этом. — Маму часто видите? — Последние пятнадцать лет видел нечасто. Но два последних года мы живем вместе. — У вас есть увлечения, хобби? — Понимаете, я потребитель информации. Люблю потреблять ее в концентрированном виде. Интернет дает огромные возможности, в частности, хотя книг не заменяет. — Тогда так: ваши последние информационные увлечения?
— Африка. В последнее время автомобилестроение.
— И что же вы там открыли, в автомобилестроении?
— А то же самое: наш главный и единственный ресурс — это люди. Их образовательный потенциал, их навыки, компетенция. Из поколения в поколение передается философия производства. Вот вы, например, знаете анекдот про японцев, которые говорят: «Нам у вас нравятся только дети, потому что все остальное вы делаете руками»? Знаете. А вы знаете, что у японцев нет авиастроения? Хотя они пытались его запустить, и ракету пытались делать, но она у них падает… почему? Нет традиции, нет философии производства. А у нас, как ни странно, есть. Хотя у нас порой допотопная, с точки зрения японцев, технология производства, устаревшее оборудование. Но мы можем строить самолеты и ракеты! В отличие от японцев… Тем не менее, гражданское авиастроение остановлено, некуда продавать самолеты. Некому. В стране летает в три раза больше старых самолетов, чем нужно по масштабу авиаперевозок. Может, через несколько лет что-то изменится, когда люди снова начнут летать, и в гораздо больших масштабах. Но сейчас оно встало намертво. Обидно. А вот автомобилестроение можно спасти. Есть сегмент рынка: мини-грузовики, «Газели», где действительно огромная перспектива, есть спрос, есть рынок: СНГ, Африка, Азия. Туда мы можем поставлять продукцию, и много больше, чем сейчас. У нас очередь на «Газели» три месяца. А «Волги» стоят за воротами в полуразобранном виде. Для того чтобы поставить их на новую современную платформу, разработать ее и внедрить, нужно несколько миллиардов долларов. Нет сейчас таких денег. А завод должен получать реальную прибыль, люди должны иметь реальную зарплату…
Мне было очень интересно. Но я выключил диктофон. Выключил, потому что это была уже другая беседа. И другой Олег Дерипаска, об автомобилестроении он мог говорить бесконечно, наверное часами… Меня продолжали мучить сомнения, когда я попрощался, сел в его служебный «мерс» и полетел по пустой, промокшей, темной Москве. Почему я не спросил его: а вот говорят, что вы?.. Интересно, о чем бы спросили его люди, поднаторевшие в хитросплетениях политики, в иерархии олигархов, в пиаровских штучках и в собирании слухов? Наверное, они бы иначе распорядились этой возможностью. Они бы допросили Олега по всей строгости наших журналистских законов. Впрочем, возможен и другой вариант.
Им просто не о чем было бы его спросить. Живого, настоящего Олега Дерипаску. Физика с кубанского хутора. Менеджера нашей промышленности в тридцать два года. Человека, который все еще чувствует предел своей компетенции.
Огонек 2000 Борис МИНАЕВ